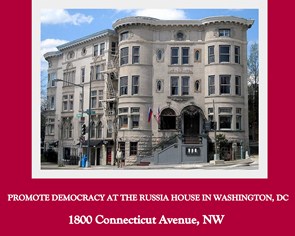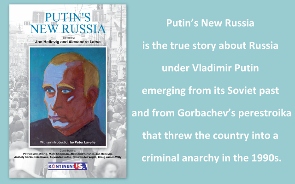Джон Глэд
.
Посвящается памяти Ираиды Павловны Сиротинской
Переводческие распри бывают весьма страстными. Вспомним хотя бы «раскол» русской православной церкви, когда Патриарх Никон решил привести русские литургические тексты в соответствие с греческими оригиналами. Результат? Некогда друживший с Никоном строптивый протопоп Аввакум был избит кнутом, сослан в Сибирь и, наконец, сожжен в срубе в Пустозëрске, – но не из-за художественных, а из-за идеологических разногласий между переводчиками относительно канонизированных текстов.
Хотя совершенно неприкосновенных текстов не бывает,[1] стремление отгородить хотя бы некоторые тексты от посягательств непрошенных редакторов не убывает. Проведение, уже не первый год, «Шаламовских слушаний» свидетельствует как раз об уже начавшемся, прямо на глазах, процессе канонизации «Колымских рассказов». Какие могут быть последствия такого «оцерковления» для его переводчиков?
Я переводил не только «Колымские рассказы», но также составленную Василием Гроссманом и Ильей Эренбургом «Чёрную книгу: о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941-45 гг.» (Издательство Holocaust Library, 1981). Эти две книги аналогичны друг другу по своей тематике, и обе являются сборниками свидетельств очевидцев. Но несмотря на такую общность, они принадлежат к совершенно разным жанрам. Если одна из них претендует на статус исторического документа, другая относится к исторической беллетристике. Если функция и мерило книги Эренбурга и Гроссмана – правда, ключевое слово для шаламовской книги – правдоподобие.
Читая «Колымские рассказы» и зная, что такие ситуации, какие там описываются, в самом деле характеризовали жизнь «зеков» на Колыме, легко забывать, что они представляют собой, хотя бы частично, фикцию, – выдумку, если хотите, – а не достоверное историческое повествование. Их ведь нельзя было бы представлять на суде, как реально имевшие место факты. И не в этом их ценность. Или возьмем рассказ «Шерри-бренди», в котором, сколько я знаю, Варлам Тихонович просто фантазирует о смерти Мандельштама. Еще указать на то, что некоторые рассказы существуют в разных вариантах. В одном таком случае я дал только фрагмент одного из них.
Если бы Советского Союза никогда не существовало и Варлам Тихонович придумал бы лагерный мир, как Борхес выдумывал свои миры, выдумка эта все-равно принадлежала бы к классическим произведениям мировой литературы – точно так же, как трагедия «Гамлет» представляет собой художественное, а не историческое достижение: правильно ли Шекспир описал положение дел в датском государстве мало кого волнует. Для России, конечно, такая абстрагированная нейтральность наступит не скоро, но такие эмоции не должны влиять на художественную оценку творчества писателя.
Когда путают фикцию с фактами, тем более с такими трагическими фактами, происходит не только канонизация темы, но и канонизация литературного произведения. Не исключаю здесь и третью, еще предстоящую, канонизацию – самого автора.
Художественное произведение представляет собой закрытый микрокосм, компоненты которого выполняют эстетическую функцию. Функция любого отдельного компонента определяется его соотношением с другими компонентами созданного автором мира, равно как и соотношением постоянно развивающихся диахронических и синхронных эстетических систем, в рамках которого произведение осуществилось. Например, реализм, в отличие от классицизма.
Каждое произведение искусства создает свои, уникальные законы. Если в одной такой вселенной 1 + 1 = 2, в другой соотношение может быть 1 + 1 = 17. Я тут ничего нового не открываю. Русские формалисты давно продемонстрировали, что «системность» литературного произведения лишает любой его отдельный литературный «винтик» абсолютного значения. Переводчик-художник, в отличие от переводчика газетной статьи, не может ограничиваться чистым плагиаторством, когда на корню вырезается сама среда – язык, – в которой произведение обитает. Провести такое хирургическое вмешательство – все равно, что удалить звуки из музыки или краски из живописи.
Но переводчики упорно исходят из ложной презумпции автоматического переноса качества оригинала на его иноязычный слепок. Есть, например, стихотворные переводы, в которых полностью сохранены и смысл, и размер, и рифмы, но в результате получаются произведения, которые не могли бы появиться в поэтическом журнале кроме как в виде переводного произведения, то есть как педагогической иллюстрации поэзии на другом языке.
Банальное, казалось бы, выражение «искусство перевода» фактически таит в себе крамольный вызов литературному истэблишменту, который в лице своей практически бесчисленной агентуры литературоведов и критиков отказывает переводчику в праве соучаствовать в художественном процессе. Они настаивают на тожестве (=) перевода и оригинала вместо приблизительного равенства (≈).
Взгляд «максималистов» в отношении художественного перевода сводится к тому, что, по возможности, нужно сохранить максимум от оригинала, – «работает» художественно такой перевод или нет.[2] Но, как гласит английская поговорка, бесплатных обедов не бывает (There is no free lunch). Художественный перевод должен следовать своим законам. Художник, чтобы он был художником, должен творить, а не механически копировать отдельные части оригинала без учета новой, уникальной системности. Я попытаюсь здесь осветить роль переводчика художественного произведения в свете моей теории центробежного искусства. (Те, кто не знаком с ней, могут ее скачать бесплатно с вебсайта http://whatwemaybe.org/txt/txt0001/Glad.John.2007r.Centrifugal_Shift_A_Theory_of_the_Arts.pdf). Теория – сложная, «многоэтажная», но рискую ее упростить здесь, пересказывая часть ее – курсивом – в нескольких словах. Как говорится, своя рука – владыка. Я пытаюсь в ней проследить философский макрокосм развития искусства из не-искусства:
Осознав свою смертность, человек предлагает сделку богам – выполнять божественные приказы и усердно молиться – взамен за вожделенное бессмертие. При таком стабильном миросоздании, художник раб, но зато он уверен, что будет жить.
Создаются ритуалы – образы, движения тела, заклининая, звуковые последовательности, – которые со временем канонизируются, затвердевая в виде неизменных изображений (позднее: живопись, скульптура) и ритмичных звуковых эффектов (музыка) в сопровождении физических движений (танец), и заклинаний (литература).
Все виды искусства первоначального «божественного» мировоззрения отличаются той же стабильностью, которая характеризирует их видение мира. Эту тенденцию я называю «центростремительной». Иной раз без химического анализа не просто определить даже тысячелетие какого-нибудь предмета пластического искуства древних китайцев, инков, египтян, или византийско-русскую иконопись. То есть, модель стремится к простому подражательству и очень медленно эволюционирует.
Человек – общественное животное (в отличие, скажем, от богомола или медведя), и люди внутри своих коллективов пытаются заверить богов в своем неустанном выполнении всех условий сделки, но любое общество неизменно переходит под контроль короля, в свою очередь назначающего своих исполнителей, которые устанавливают свою иерархию подкомандования.
Проходят годы, и художник забывает свое место – он начинает нарушать установленный художественный кодекс, нагло ставит свое имя на картинах, и, наконец пытается узурпировать место короля, в свое время узурпировавшего богов. (В поздний советский палеолит кто-то – уже не помню кто – пошутил, что придет время, когда Брежнева будут помнить как чиновника эпохи Солженицына).
Процесс эмансипации не знает границ. Композитор сочиняет музыкальное произведение, которое потом «интерпретируется» музыкантом. Пикассо воспроизводит семейный портрет Веласкеса в манере кубизма, и органные фуги Баха исполняют сначала на гитаре и потом на электронном синтезаторе. Появляются «импровизации» в джазе, и детища художника по-немногу эмансипируются от него. И тогда реализуется вся гамма той свободы, которая называется «искусством».
Теперь давайте посмотрим, как вписывается в эту схему художественный перевод. Воссоздание без создания есть как раз то стабильное, «центростремительное» анти-искусство из которого вышло настоящее – «центробежное» – искусство, но даже при самом скромном отходе от механической буквальности, переводчик (traduttore), возомнивший себя чем-то бóльшим, чем копировальная машина, предается анафеме как предатель (traditore). То есть, ему отказывают в праве соучаствовать в той центробежности, без которой искусство невозможно.
Навязанное критиками нарушение художественного кодекса не остается безнаказанным. Недаром существует поговорка Books don’t travel – «Книги не путешествуют». То есть, произведения, популярные в оригинале, не так часто, как можно было бы ожидать, находят читателей на других языках. Удачный на одном языке оборот речи часто «не получается» на другом. Даже в фактологическом тексте, скажем, в газетной статье, форма танцует с содержанием, но вместе с тем, оба борются за первенство. Эта опасность тем более «чревата», когда речь идет о «самом малоприбыльном жанре» – рассказе.[3]
Возьмем, например, слово «лиственница», которое переводится на английский язык, как larch. Если речь идет о правильном эквивиленте в статье для энциклопедии, вопроса нет: larch, да и только. Но какого бы «носителя» английского языка я ни спрашивал, никто не знал значения этого слова. Если бы я сказал, что это шампунь или сорт шоколада, никто не стал бы перечить. Только одна женщина знала, что это дерево. Когда она мне сказала, что она канадка, я подумал было, что в Канаде лиственница – часто встречающееся дерево... Но не тут-то было. Оказалось, что слово ей попалось в комедийной телевизионной серии «Monty Python», она удивилась и поискала в словаре. Но какое это дерево, она уже не помнила.
Посмотрел и я в словарь. Оказалось, что «листья» лиственницы имеют форму иголок и что есть и шишки, как у сосны, но лиственница сбрасывает свои листья не каждый год, как сосна, а через 3-4 года. В России есть породы, которые сбрасывают хвою каждый год. В интернете есть даже статьи на тему, является ли лиственница «настоящей» сосной или лже-сосной.
Получается, что у переводчика три возможности: а) перевести как larch, б) дать пространную сноску с уроком биологии, в) перевести как pine (сосна), не вдаваясь в подробности. Дилемма осложняется еще тем, что Варлам Тихонович придал целому циклу название рассказа «Воскрешение лиственницы», так что пришлось употреблять, в основном, larch.
Аналогичный пример: по-русски форма обращения «Иван Иванович» иногда употребляется, чтобы показать, что человек, о котором идет речь, – один из толпы, и что он как индивидуальная личность никого не интересует. В современном английском языке нет отчества, но иногда, когда речь идет о России, употребляется просто «Иван» именно в этом значении.
Еще один пример: Варлам Тихонович дружил с Надеждой Яковлевной Мандельштам, чей муж Осип написал стихотворение «Шерри-Бренди». В свою очередь Варлам Тихонович позаимствовал это ироническое название для одного из своих рассказов. Как быть переводчику? Можно а) дать пространную сноску о литературном наследии Осипа Эмильевича и об условиях, приведших к его смерти, б) не объяснять, или в) использовать выдержку из стихотворения как эпиграф к рассказу. Я избрал последнее решение.
Но такие примеры условны. Любой, кто имеет опыт с правкой художественного текста – даже своего – знает, что это бесконечная цепь мелких изменений. The devil is in the details. Есть и другая английская поговорка: The proof is in the pudding: узнаешь, вкусен ли пуддинг, только отведав его. Читая иной перевод, часто тут же понимаешь, что это перевод. Смысл передан правильно, грамматические правила соблюдаются, но чувствуешь, что переводчик строил свои предложения совсем не так, если бы он писал собственное сочинение. Очень уж силен гипноз оригинала.
Чтобы избегать такой опасности, перед тем, как предлагать подборку «Колымских рассказов» издателям, я сначала уговорил талантливую английскую писательницу Сюзан Эш редактировать мои переводы. Она не знает русского языка, так что ее замечания относились только к английскому стилю. Ее предложения я делил на три категории: «лучше», «не хуже», и «хуже». Как правило, я принимал не только категорию «лучше», но также «не хуже», считая, что она могла почувствовать что-то, чего я сам не заметил.
Приняв некоторые из ее предложений и отбросив другие, я начал обращаться к литературным агентам, которые все – без исключения – отвечали обычными типовыми письмами, какими всегда отказывают авторам: «Спасибо... к сожалению не подходит... желаю всего наилучшего». А то и вовсе не отвечали. Стараясь не падать духом, я тогда начал писать непосредственно самим издателям, и получал те же «Спасибо... к сожалению не подходит... желаем всего наилучшего».
Не отчаявшись, я зачастил в Нью-Йорк, заходя в издательства без предупреждения. Удивленные таким нахрапом служащие издательства меня вежливо выслушивали, правда, не долго, и пару раз позволили оставить несколько рассказов. Но потом последовали те же куцые «Не подходит».
Чтобы понимать положение писателей, а также их переводчиков, надо разбираться в полу-монополистических реалиях современных средств массовой информации. По-английски принято говорить о mainstream media (СМИ «главного течения»), так что когда говорят о «свободе печати», фактически имеется ввиду свобода для тех, кто юридически владеет этой самой печатью, или хотя бы ее контролирует. Тут речь идет буквально о горстке сверх-богатых владельцев журналов, газет, радиостанций и даже многих из главных каналов интернета, в которых главным образом рецензируются книги, выпущенные теми же издательствами.[4] Стоит ли этому удивляться?!
Если автор неизвестен, большинство таких издательств рассмотрят его рукопись, только если она поступила от признанного литературного агента. Соглашаясь напечатать одни книги и отказываясь от других, владельцы СМИ практически решают, кто может заниматься таким посредничеством: кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Тут не обходится без определенных идеологических приоритетов, в которых задействованы многие библиотекари и владельцы книжных магазинов. Даже удивляешься иной раз, что, открывая книгу, не видишь сакраментальное «Подписано к печати», не говоря уже о его более прямолинейном предшественнике «Дозволено цензурой».
Как всегда, деньги переплетаются с политикой. Пока шла «холодная война», даже если расходы на политическую пропаганду составляли самый ничтожный процент от военных расходов, это были огромные суммы в мире литературы, и как раз они финансировали издания «диссидентов». Русские книги печатались, переводились, рецензировались, и даже бесплатно распространялись за счет различных западных «органов». Когда я писал свою книгу о литературе и политике русской эмиграции (Russia Abroad[5]), ссылаясь на закон о допуске американских граждан к информации о деятельности своего правительства (Freedom of Information Act), я попросил, чтобы меня хоть немного просветили о том, что тогда делалось в этом плане, но мне - в нарушение закона - отказались даже сообщить, субсидировало ли ЦРУ издание русской поэзии в конце 1940-х годов.
Мы знаем, например, что уже в 1956-ом году ЦРУ распространяло русские книги через организацию «International Literary Center» в Нью-Йорке, которую 37 лет возглавлял Джордж Минден, бывший гражданин Румынии. Лет десять назад я попытался получить от него хоть какие-то данные о его деятельности, он меня выслушал и не сообщил решительно ничего. Согласно статье в «Нью-Йорк Таймз», его организация «передала десять миллионов западных книг и журналов в руки интеллектуалов и профессионалов Восточной Европы и Советского Союза».[6] (Добавлю от себя, не без улыбки, что многие из этих книг попали не в намеченные страны, а в личные библиотеки эмигрантов из этих стран.) Конечно, издавались и раздавались не только «западные» книги. Появились и «Колымские рассказы» в издании лондонского Overseas Publications Interchange, Ltd. в 1978-ом году. Помню, как издатель Серафим Милорадович мне домой лично доставил экземпляр, зная о моих переводах.
Мне отказывали в советской въездной визе с 1974 года до 1989 – целых 15 лет, – и «Колымские рассказы» я переводил как переводил бы Гомера или Цицерона – без какой-либо обратной связи или контакта с автором, хотя Шаламов был еще жив. Основатели издательства «Ардис» Карл и Эллендея Проффер согласились передать Надежде Яковлевне Мандельштам письмо для Варлама Тихоновича, но ответа я не получил.
Помню, как в конце 1977 года я прочитал у английского историка Роберта Конквеста, что Варлам Тихонович скончался, и я долго ходил в тот вечер подавленный этой новостью. Но когда на следующий день я позвонил Конквесту, его красивый, аристократический голос выразил удивление: «Неужели я это написал? Не помню, может быть, я был неправ». Так оно и оказалось.
Получив сплошные отказы от издательств – как mainstream, так и академических, – я переработал все свои переводы, по возможности выкидывая выражения и обороты, которыми я не пользовался бы, если бы сам писал как автор. Наконец Carol Houck Smith, редактор в издательстве W. Norton, согласилась напечатать небольшую подборку рассказов, но весь тираж составлял 2000 экземпляров.
Рукопись «Колымских рассказов» была вывезена из СССР в 1966-ом году американским компаративистом Клэрансом Брауном. Между передачей рукописи «на Запад» и появлением моих первых переводов прошло 14 лет! Отдельные рассказы я открывал для себя в нью-йоркском «Новом Журнале» под редакцией Романа Борисовича Гуля, а также в эмигранстких журналах «Грани» и «Посев». Пытаюсь теперь установить, была ли вывезенная Клэрансом рукопись полная, и не высылал ли Шаламов ее в разное время в разных вариантах.
Встречаясь осенью 1987-го года с главным редактором журнала «Новый мир» Сергеем Залыгиным, который с большим оптимизмом говорил о реформах в СССР, я вспомнил другую встречу – с Михаилом Лукониным и Сергеем Наровчатовым, которых направили в Америку как официальных представителей «советской» поэзии. Когда Луконин похвастался, что нашел чуть ли не 50 своих книг в Библиотеке Конгресса, я его спросил, правда ли, что наконец собираются переиздать Мандельштама, на что он брезгливо ответил, что на «третьестепенного» поэта бумаги жалко. Луконин был заурядным писакой, которого продвигали по чисто политическим соображениям, но то же самое нельзя было сказать о Наровчатове – предшественнике Залыгина на посту главного редактора «Нового мира». Когда мы с Наровчатовым оказались вдвоем, он тихо сказал, что не согласен с Лукониным. Но, как потом выяснилось, разрешение напечатать Мандельштама он тоже не смог получить. Памятуя выходку Луконина, я возразил Залыгину, что «Колымские рассказы» все еще под запретом. Мое предложение его явно заинтриговало, и он обещал узнать, что можно сделать в этом плане. Не прошло и года, как на страницах этого самого престижного «толстого» журнала появилась подборка шаламовских рассказов.
В 1989-ом году, под наблюдением камер, мрачная сотрудница советского консульства в Вашингтоне – без объяснений – просунула мне через узкую, в три погибели низкую щель мою первую за 16 лет советскую визу.
В Москве таксист, смеясь, мне рассказал, как вез эмигранта «первой волны», который вспоминал, как он до эмиграции жил неподалеку «в нумерах». Выйдя из машины и чувствуя себя эдаким булгаковским Воландом, я увидел целый ряд бабушек, продававших, кто – отдельные сигареты, кто – бутылку водки. Это был, пожалуй, первый голодный год «перестройки». Настроение сразу испортилось. Одна из них предлагала букет не очень свежих цветов. Когда я попытался просто дать ей деньги, она возмутилась, что я ее принимаю за нищую. Я пошутил, что я один в городе и мне некому дарить цветы, и она чуть ли не расплакалась, но деньги все-таки взяла. В продуктовом магазине, вместо колбасы или творога, с пустых полиэтиленовых мешков в витринах на меня отовсюду индифферентно глядело одно и то же изображение собаки колли. На высокой полке в дальнем углу одиноко ютились три пыльные банки сомнительных огурцов.
Потрясенный увиденным, я спустился в подземный переход и оказался перед «развалом», где продавали не носки или яблоки, а «Колымские рассказы». Мужчина, стоявший первым в очереди, купил три экземпляра, женщина позади него – шесть.
Отсутствие контакта с автором сказалось на переводе. Как потом выяснилось, Роман Борисович правил рассказы – без согласия Варлама Тихоновича. Когда я узнал об этом конфликте, я не придал ему особого значения. Бывают, конечно, безоблачные отношения между авторами и их редакторами, но такие счастливые «браки» – скорее исключения из общего правила. Автор хочет, чтобы его печатали, и путь к вожделенной цели – проходит через руки редактора, так что отношения между ними чаще всего можно охарактеризовать как «добровольно-принудительные». В конце концов редакторы редактируют. За это им платят. Например, все признают, что стихи Элиота выгадали от редактуры Паунда. Как бы то ни было, в данном случае нашла коса на камень, но соотношение сил между автором и редактом было очень уж неравным.
Как продемонстрировал Лайсандер Йаффе в сопоставлении моего перевода рассказа «Заклинатель змей» с переводом того же рассказа Робертом Чандлером, мы с Чандлером работали с разных текстов: я – с текста из «Нового журнала», он – с книжного текста.[7]
Я тогда принимал как должное, что разногласия между Варламом Тихоновичем и Романом Борисовичем носили чисто стилистический характер и не имели существенного отношения к содержанию. Я оказался не прав, но теперь, спасибо Ираиде Павловне, наследнице Варлама Тихоновича, наконец есть авторизованный текст.
Первый томик с подборкой некоторых рассказов был встречен восторженными рецензиями, написанными самыми авторитетными именами в англо-американской литературе (среди них –Anthony Burgess, Harrison Salisbury, Saul Bellow), и не где-нибудь, а в самых что ни на есть mainstream изданиях (включая «New York Times», «Chicago Tribune», «Times of London»). Я не сопоставлял шаламовский текст с текстами, вышедшими в «Новом журнале», «Посеве» и «Гранях», но исключительные отзывы критиков красноречиво свидетельствуют о том, что редактура Романа Борисовича совсем уж плохой быть не могла.
Но Нортон удосужился напечатать еще 2000 экз. только через полгода, и опять – снова полгода спустя – еще 2000 экз. Но кто же покупает книгу на основании рецензии, прочитанной год назад?!
После выхода первого нортоновского тома под названием «Kolyma Tales», я предложил издательствуеще подборку рассказов, которой дал название одного из них– «Графит». Рецензии на этот том все были очень положительные, но без того восторга, которым отличались рецензии на первый сборник.
Для перевода второго сборника (1981 г.) я обзавелся своим первым компьютером и предложил представить рукопись в виде компьютерного файла, но такая практика еще не вкоренилась в издательском мире, и Нортон настаивал на традиционном наборе. Уверенный, что рукопись в надежных, профессиональных руках, я уехал на лето в Европу. Когда вернулся, меня ждал готовый том – с большим количеством опечаток. Оказалось, что Нортон решил не тратиться на услуги корректора! Даже фамилия автора на суперобложке была выписана большими буквами как «Шаламав»! Несколько лет спустя я случайно познакомился с членом комитета по присуждению «Американских Книжных Премий», который мне сказал, что если бы не эти опечатки, второй том был бы признан одним из лучших пяти переводов года с любого языка, как это было с первым томом.
Прошло еще несколько лет, и я получил письмо от Нортона с уведомлением о том, что если я не выкуплю бóльшую часть непроданных тиражей этих двух книг, они пойдут под нож. Я поторопился это сделать, и моя сестра – врач в Майами – дарила их своим пациентам. Пришлось опять начать поиски издателя. Наконец Penguin согласился переиздать первый нортоновский томик. Таким образом я оказался не только переводчиком, а также редактором и литературным агентом.
В 1992-ом году к нам в гости в Вашингтон приехала из далекой Москвы Ираида Павловна Сиротинская, и мы с ней решили, что если объединить первые два нортоновских томика, то рассказов уже будет достаточно, чтобы восстановить первоначальные циклы, на которые их разбил сам Варлам Тихонович. Penguin согласился. Именно Ираида Павловна была моей единственной связью с Варламом Тихоновичем. Теперь, когда ее уже нет, осталась ее преданная работа по изданию его наследия.
В 1965-ом году вышел фильм «Доктор Живаго», и те же самые СМИ, которые так упорно отказывались от «Колымских рассказов», тратили несчетные миллионы долларов на постановку и рекламу фильма. Если бы рецензии и статьи оплачивались как рекламы, речь бы шла не о миллионах, а о миллиардах.
Как показал Иван Толстой в своей книге «Отмытый роман Пастернака: Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ» (2008), американские разведслужбы приложили огромные усилия при популяризации романа – в нарушение закона Smith-Mundt от 1948-го года, запрещавшего правительству заниматься пропагандой внутри США. На тему, было ли намерение особо не выдвигать «Колымские рассказы» как потенциально конкурирующее произведение, – эти агентства молчат (как, впрочем, вообще о своей роли в «деле Пастернака»), но, если сопоставить восторженные отклики критиков на выход «Колымских рассказов» со сплошными отказами со стороны издательств, – сколько их было, уже не помню, но примерно 50, – поневоле встает вопрос, как такое могло быть.
Конечно, эта несоизмеримость не могла не осложнить отношение Варлама Тихоновича к Борису Леонидовичу, уже не говоря о его испортившихся отношениях с Александром Исаевичем, которого он даже назвал «графоманом» и «человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма»:
«На чем держится такой авантюрист? На переводе! На полной невозможности оценить за границами родного языка те тонкости художественной ткани (Гоголь, Зощенко) — навсегда потерянной для зарубежных читателей. Толстой и Достоевский стали известны за границей только потому, что нашли переводчиков хороших.»[8]
Вымещал Варлам Тихонович свой несправедливый гнев и на Романе Борисовиче, называя его, по словам Ираиды Павловны, «сволочью, спекулирующей на чужой крови».[9]
В 1972-ом году, – шесть лет после того, как Варлам Тихонович передал рукопись «Колымских рассказов» за границу (возможно, подражая примеру Пастернака), и целое десятилетие после секретного доклада Хрущева на ХХ-ом съезде КПСС, – в «Литературной газете» появилось его письмо в редакцию, в котором говорилось, что:
«Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!»
Но это было не все. Пошли самые гнусные формулировки сталинского периода. Никогда не забуду ужас, который сам испытал, прочитав это письмо. В нем Варлам Тихонович писал, что никогда не входил в контакт ни с «Новым журналом», ни с «Посевом». Это была правда – прямого контакта не было, но ведь он передал же рукопись именно для публикации. Гуль продержал ее месяц и вернул ее Клэрансу.[10]Но, видимо, снял фотокопию. Прошло четыре года, и никто не печатал книгу. Наконец Гуль начал печатать по 2-3 рассказа в «Новом журнале», с обычной припиской для защиты автора, что печатается без его ведома и согласия.
Считая, что его умышленно отставили, чтобы дать зеленый свет Борису Леонидовичу, – Варлам Тихонович хотел вымолить у властей разрешение напечатать свои стихи. Видимо, удивленные такой низкой ценой, они и выполнили свои обязательства по этому адскому соглашению, – если только была такая договоренность.
Помните, выше говорилось о том, что великое художественное произведение узурпирует своего создателя? Может быть, найдутся читатели, которые станут говорить о моральной ответственности писателя, создавшего нечто бóльшее, чем он сам, но не я. Это был не просто вынужденный ход, а акт самосожжения, отчаянный жест, вполне достойный шекспировского Лира.
Откуда такой диспропорциональный прием в отношении этих двух талантов? Как объяснить контраст между восторженной реакцией критиков и незаинтересованностью издателей? 1960-ые годы были периодом протеста против вьетнамской войны и борьбы за права черного населения, но в самом конце 1960-ых возникло движение памяти жертв Холокоста, и с новой остротой встали старые экзистенциальные вопросы. Пастернак, как и Герцль, был сторонником ассимиляции евреев: Вспомните в «Докторе Живаго»:
«Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие в мире христиане мира. Вы именно то, чему противопоставляли самые слабые из нас».
Если в 1960-ые годы Борису Леонидовичу, человеку «не от мира сего», могли простить его ассимиляционные взгляды, в новом климате на эмигрантских сборищах можно было иной раз услышать, как его называют «антисемитом». Даже Борис Хазанов, отсидевший 1949-1954 в лагерях, но эмигрировавший именно в Германию, где «на улице говорят на языке Гëте и Шиллера»[11], теперь высказывает мысль о необходимости пересмотреть отношение к нему:
«Освенцим предъявил страшный счет христианству... Пример Бориса Пастернака с его рассуждениями о еврействе в Докторе Живаго, пример поразительной нечувствительности, – всего лишь пример. Но какой красноречивый».[12]
Если было бы возможно переиграть историю, не ясно, какой прием «на Западе» ожидал бы этих двух талантов, поменялись бы они местами. Что же касается Александра Исаевича, всем известно катастрофически изменившееся отношение западных СМИ, отчасти по подсказке бывших «диссидентов», ранее ему аплодировавших. Больно ворошить это прошлое, но что было, – то было. Слова из песни не выкинуть. Тем более, что в данном случае боюсь, что это прошлое – залог будущего. Бывшая сплоченность теперь сменяется разборками. Вспоминаю давнишнюю реплику Наума Кожавина: «Почему мы уехали? Чтобы драться друг с другом».
Но по какую сторону этих баррикад каждый из нас ни стоял, мне кажется, мы можем все согласиться, что нельзя использовать написанное кровью самой жертвы письмо в «Литгазете» как доказательство чего бы то ни было. Вполне понятно, что Варлам Тихонович возмущался непрошенной редактурой Романа Борисовича, но ведь только Роман Борисович печатал «Колымские рассказы», когда – годами – все другие отказывались. В конце концов, тираж «Нового журнала» был крохотный. Не знаю, покрывали ли продажи даже типографские расходы.
Как и проза Варлама Тихоновича, так и его стихи входят в большую мозаику, где с искусством смешаны и философия, и политика, но если Шаламов-прозаик стоит на одном уровне с Мандельштамом-поэтом, то же самое нельзя сказать о Шаламове-поэте.
Теперь вернемся к процессу «оцерковления», о котором я писал в начале этой статьи. Сейчас речь идет о том, чтобы перевести на английский язык все «Колымские рассказы». Я безусловно согласен, что это нужно сделать, но, вместе с тем, я не считаю, что все эти рассказы – одинакового качества. В первый нортоновский том я включил только те рассказы, которые меня буквально потрясли, рассказы, которых я – чисто физически – не мог не переводить. «Графит» состоял из рассказов, которые, по-моему, были очень хорошими, но не такого исключительного уровня. Критики как будто со мной соглашались в своих рецензиях.
По определению, «Полное собрание сочинений» включает все. Значит, там появятся те рассказы, которые не прошли через мой субъективный, вынужденный издательскими реалиями отсев. «Кто ты такой, самозванец, чтобы ставить под сомнение наследие такого мирового классика?! – возразят мне с негодованием. Ты (именно «ты» скажут, а не «Вы») – переводчик, да и только. Знай сверчок свой шесток». (Помню, как Владимир Максимов, желая унизить Льва Копелева, презрительно отозвался мне о нем, как о «всего-лишь переводчике с немецкого».)
Теперь издательский мир, в свое время так упорно отказывавшийся от «Колымских рассказов», как будто начинает осознавать, что нельзя бросать за борт последнего русского «классика», но, вместе с тем, нельзя забывать, что для остального мира, колымская трагедия не может иметь такого значения, какое она имеет для России. Ведь история человечества полна трагедий. Это во-первых.
Во-вторых, если Пушкин по-английски, – это не Пушкин, чтобы Шаламов стал для остального мира, тем, что он есть для России, это должно случиться на уровне искусства, а не истории.
Безусловно, «Колымские рассказы» в своей совокупности представляют собой огромную мозаику, и не все камушки в мозаике могут одинаково блестеть, да и не должны. Первый томик переводов, выпущенный Нортоном, содержал меньше четверти всех «Колымских расказов», и его характеризация известным журналистом Гаррисоном Солсбери как «горсть алмазов»[13]показывает, что «эпичность» шаламовской мозаики можно почувствовать только в ее совокупности.
Может быть, для полного издания – и только для него – лучше будет выборочно идти на компромиссы с «максималистами», но при этом надо признать и правду «реалистов» и согласиться, наконец, что художественный перевод ≠ фактологический перевод.
*
Согласно «Электронной библиотеке диссертаций» только в период 2004-2010 годов на работы Джона Глэда ссылаются в 144 российских кандидатских и докторских диссертациях, причем, чуть ли не в большинстве из них, – многократно.
[1]. Согласно газете «Jewish Week», новое совместное издательство Penguin Random House только что заказало писателю Howard Jacobson переписать шекспировскую пьесу «Венецанский купец», в которой еврей-ростовщик Шейлок настаивает на своем праве вырезать фунт мяса из тела должника, который не может отдать долг в срок. Джейкобсон, который в 2010-ом году получил приз Man Booker за роман Finkler Question, в котором действие вертится вокруг еврейских тем, объясняет, что никакого Холокоста еще тогда не было, и что все элементы пьесы тогда были окрашены иначе, чем теперь, и что он с трепетом берется за свою непростую задачу. (Helen Chernikoff, "British Author Jacobson To Rewrite Shakespeare’s ‘Merchant Of Venice’” 9/9/2013, http://www.thejewishweek.com/news/international-news/british-author-jacobson-rewrite-shakespeares-merchant-venice.)
[2]. Спешу добавить, что здесь, конечно же, не вопрос выбора между двумя взаимно друг друга исключающими позициями, а широкого диапозона, вдоль которого может быть сколько угодно подходов, но Вы не заметили, дорогой читатель, что почему-то в жизни, чем ближе люди друг к другу, тем яростнее их споры.
[3]. Александр Исаевич, не без определенной ревности, отметил эту борьбу за первенство между формой и содержанием в контексте функции и иерархии жанров: «То и дело сдвигая стих в сторону прозы (и притом тяжеловесной), Бродский оставался в поверхностном убеждении принципиального превосходства поэзии над прозой и высказывал это не раз. Например в том же стамбульском эссе: что проза "лишена какой бы то ни было формы дисциплины” — весьма опрометчивое суждение. А в интервью с Джоном Глэдом на вопрос: "Поэты наверху, прозаики внизу?” — с лёгкостью отвечает: "ну это само собой”7. Не так-то "само собой”. Вот Гёте высказал однажды: стихотворно пишет тот, кому нечего сказать: слово тянет за слово, рифма за рифму.» (Александр Солженицын, «Иосиф Бродский – Избранные стихи», «Новый мир», Nо. 12, «Дневник писателя», «Журнальный зал», http://magazines.russ.ru:81/novyi_mi/1999/12/solgen.html.
[4]. Несколько примеров: издательство Бертельсманн, в котором работает 106 000 служащих (!), контролируется Елизаветой (Лиз) Мон. Но Бертельсманн значительно уступает по размаху корпорации Time Warner (президент: Джеральд Левин), которая, в свою очередь, блекнет перед Walt Disney Company (президент: Боб Игер). Когда Руперт Мёрдок, влалелец News Corporation, где работает 53 000 служащих, давал показания в британском парламенте относительно подслушивания сотрудниками его таблойдной газеты «News of the World» частных телефонных разговоров, он оправдывался тем, что не может уследить за всеми своими публикациями и что эта газета, – которая была тогда самая многотиражная газета в англоязычном мире, – составляла меньше 1% его империи. Другой пример: согласно журналу «Форбс», в 2013 состояние Самнера Редстоуна (Sumner Murray Rothstein) исчислялось в 4 700 000 000 долларов; он и члены его семьи владеют контрольными пакетами в CBS Corporation, Viacom, MTV Networks, BET, Paramount Pictures, и целым рядом других крупных СМИ. Даже вышеупомянутое слияние Penguin (дочерней фирмы Pearson PLC) и Random House (дочерней фирмы Бертельсманна) создало самое крупное книжное издательство в Англии и США, – причем без любых возражений со стороны американских и европейских судебных инстанций, которые должны не допускать создания таких монополий. (Stephanie Bodoni / Aiofe White, "Bertelsmann’s Random House Wins EU Backing for Penguin Bid,” Bloomberg News, 5.4.2013)
[5]. Издательство Эрмитаж», 1999.
[6]. Douglas Martin, «George C. Minden, 85, Dies; Led a Cold War of Words», New York Times, 23.4.2006, http://www.nytimes.com/2006/04/23/nyregion/23minden.html.
[7]. http://shalamov.ru/en/research/207
[8]. «Варлам Шаламов в свидетельствах современников: Материалы к биографии». 2012 г. 435 с. Цитируется по «Библиотеке Якова Кротова», http://krotov.info/libr_min/sh/shalamov.html. Варлам Тихонович еще добавляет: «О стихах и говорить нечего. Поэзия непереводима». Взрывчатую тему стихотворного перевода я оставляю для другого раза.
[9]. «В. Шаламов и А. Солженицын», http://shalamov.ru/memory/45/.
[10]. Яков Клоц, Шаламовские слушания, Прага, 2013.
[11]. Псевдоним Геннадия Моисеевича Файбусовича, см. мое с ним интервью в книге «Беседы в изгнании», Джон Глэд, Издательство Захарова, 1991, стр. 131-154 (http://libes.ru/19189.read или http://modernlib.ru/books/gled_dzhon/besedi_v_izgnanii_russkoe_literaturnoe_zarubezhe/read_1/); Джон Глэд и Борис Хазанов, «Допрос с пристрастием: Литература изгнания», издательство Захарова, 2001; John Glad, «Russia Abroad: Writers, History, Politics», Эрмитаж (Hermitage) и Birchbark Press, 1999.
[12]. «Элизиум теней: Автобиографическая проза», издательство «Алетейя», Санкт-Петрбург, 2013, стр. 44-46.
[13]. Harrison Salisbury, «Notes from a totalitarian underground: Kolyma Tales», 20.4.1980, стр. Е1-2.



.jpg/250px-ElbeDay1945_(NARA_ww2-121).jpg)